Актуальные статьи
Принимал ли Поместный Собор 1917–1918 гг. постановление о допустимости использования за богослужением русского языка
После совершения в марте 2019 г. митрополитом Тверским и Кашинским Саввой акта церковного вандализма – обновленческой литургии на русском языке совместно с представителями кочетковского братства, а также скандала и церковной смуты, связанной с допуском 2 февраля 2020 г. митрополитом Саввой последователей священника Георгия Кочеткова в кафедральный Воскресенский собор, стали звучать необоснованные утверждения, будто бы Поместный Собор 1917–1918 гг. разрешил в отдельных случаях, когда нет возражения общины и прихожан храма, использовать за богослужением вместо церковнославянского языка русский. Также и сам митрополит Савва в своем видеообращении к тверской пастве от 5 февраля 2020 года повторил этот апокриф.

Рассмотрим историю этого вопроса.
К Поместному Собору 1917–1918 годов, на волне революционной обстановки в российском обществе и среди духовенства, было подготовлено всё для того, чтобы произвести настоящую и всеохватную богослужебную революционную реформу в Русской Церкви. Однако, по действию Промысла Божьего, реформация Православия не состоялась.
До начала работы Поместного Собора в 1917 году Предсоборным советом был поставлен вопрос о богослужебном языке, в том числе и допустимость «введения в богослужение русского или украинского языка». VI отделом Предсоборного совета были приняты следующие тезисы:
1. Введение в богослужение русского или украинского языка допустимо.
2. Немедленная и повсеместная замена в богослужении церковно-славянского языка русским или украинским языком и неосуществима, и нежелательна.
3. Частичное применение русского и особенно украинского языка в богослужении (чтение Слова Божия, отдельные молитвы и песнопения, тем более замена и пояснение отдельных речений русскими или украинскими речениями, введение новых молитвословий на русском языке в случае их одобрения Церковию) допустимо и в известных условиях желательно.
4. Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на русском или украинском языке в меру возможности подлежит удовлетворению.
5. Творчество в богослужении допустимо и возможно.
6. Дальнейшие работы Особой комиссии по переводу, исправлению и упрощению славянского языка в церковных книгах желательны.
7. Работы Комиссии высокопреосвященного Сергия, архиепископа Финляндского и Выборгского, по сему предмету желательны.
Итак, Предсоборный совет фактически подготовил и провозгласил богослужебную реформу и вынес ее на рассмотрение Поместного Собора. Однако Промысл Божий вел Церковь на Соборе иным путем.
Вот что пишет сочувствующий реформаторскому движению в Русской Церкви современный исследователь архивов церковных документов того времени А.Г. Кравецкий в статье «Проблема богослужебного языка на Соборе 1917–1918 годов и в последующие десятилетия» (ЖМП. 1994. № 2. В цитатах из этой публикации указаны страницы в тексте):
«На Священном Соборе 1917–1918 годов был образован отдел “О богослужении, проповедничестве и церковном искусстве” под председательством архиепископа Евлогия (Георгиевского). Один из подотделов этого отдела обсуждал проблемы, связанные с богослужебным текстом и языком... В результате был принят следующий документ:
Священному Собору Православной Российской Церкви
О церковно-богослужебном языке
Доклад отдела “О богослужении, проповедничестве и храме”
1. Славянский язык в богослужении есть великое священное достояние нашей родной церковной старины, и потому он должен сохраняться и поддерживаться как основной язык нашего богослужения.
2. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются права общерусского и малороссийского языков для богослужебного употребления.
3. Немедленная и повсеместная замена церковно-славянского языка в богослужении общерусским или малороссийским нежелательна и неосуществима.
4. Частичное применение общерусского или малороссийского языка в богослужении (чтение Слова Божия, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и т. п.) для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении сего церковной властью желательно и в настоящее время.
5. Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на общерусском или малороссийском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью.
6. Святое Евангелие в таких случаях читается на двух языках: славянском и русском или малороссийском.
7. Необходимо немедленно образовать при Высшем Церковном Управлении особую комиссию как для упрощения и исправления церковно-славянского текста богослужебных книг, так и для перевода богослужений на общерусский или малороссийский и на иные употребляемые в Русской Церкви языки, причем комиссия должна принимать на рассмотрение как уже существующие опыты подобных переводов, так и вновь появляющиеся.
8. Высшее Церковное Управление неотлагательно должно заботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском, общерусском или малороссийском, употребляемых в Православной Русской Церкви, языках, а также изданием таковых же отдельных книжек с избранными церковно-славянскими богослужебными молитвословиями и песнопениями.
9. Необходимо принять меры к широкому ознакомлению с церковно-славянским языком богослужения как через изучение его в школах, так и путем разучивания церковных песнопений прихожанами для общецерковного пения.
10. Употребление церковно-народных стихов, гимнов на русском и иных языках на внебогослужебных собеседованиях по одобренным церковною властию сборникам признается полезным и желательным» (с. 70–71).
Что же было дальше? Был ли доклад «О церковно-богослужебном языке» в той редакции, которая была подготовлена соответствующим подотделом, принят Поместным Собором? Вопрос этот важен потому, что в ответ на обвинения в недозволенности служить на русском языке неообновленцы в своих публикациях ложно утверждают, что Поместный Собор 1917–1918 гг., якобы, утвердил этот доклад.
Продолжим цитировать А.Г. Кравецкого.
«Доклад подотдела был заслушан Соборным советом 29 августа (11 сентября) 1918 года и передан на рассмотрение Совещания епископов. Проходившее 9 (22) сентября в келиях Петровского монастыря Совещание епископов, на котором председательствовал Святейший Патриарх Тихон, рассмотрело доклад. Стенограммы обсуждения в архиве нет» (с. 71).
Итак, документ попадает наконец в решающий соборный орган – Совещание епископов. Неужели доклад будет утвержден? Ответ находим в резолюции Совещания:
«Совещание епископов, заслушав в заседании 9 (22) сентября сего года означенный доклад, постановило: доклад этот передать Высшему Церковному Управлению.
Согласно сему постановлению Совета епископов и во исполнение по сему предмету Предсоборного совета, представляю означенный доклад о церковно-богослужебном языке на разрешение Высшего Церковного Управления» (с. 71).
Другими словами, Совещание епископов доклад заслушало, но не утвердило и не одобрило, а постановило передать данный доклад на «разрешение» Высшего Церковного Управления.
Таким образом, Поместный Собор 1917–1918 годов в своем заседании под председательством Святейшего Патриарха Тихона никаких решений, утверждающих возможность или целесообразность литургических изменений в языке богослужения, не принял и никак не освятил реформаторскую обновленческую деятельность в Русской Церкви.
ВЦУ впоследствии эту резолюцию не утверждало.
В этом мы видим не случайное событие, объясняющееся революционной смутой и нехваткой времени для завершения работы Поместного Собора, а Промысл Божий, не допустивший реформации Русской Православной Церкви, и мы должны быть благодарны такому благому и промыслительному решению этого вопроса.
Эта резолюция Совещания епископов – членов Поместного Собора имеет важнейшее значение. Дело в том, что современные обновленцы, ради оправдания своих самочинных переводов богослужения на русский язык, вводят в заблуждение православных, постоянно ссылаясь на несуществующее решение, якобы принятое на Поместном Соборе, согласно которому допускается использование русского (русифицированного) языка в богослужении. Эти лживые утверждения можно встретить в ряде публикаций неообновленцев и, к сожалению, в словах митрополита Тверского Саввы. И по недоразумению в словах некоторых искренних тверских православных верующих – противников использования русского языка за богослужением, которые, при этом, не против чтения Евангелия и Апостола на русском языке...
Впоследствии обновленцы 1920-х годов при проведении в жизнь своих литургических реформ и при провозглашении своих церковно-политических программ не любили ссылаться на решения Поместного Собора 1917–1918 гг. Они упоминали его обычно, лишь критикуя его недостаточную «революционность». Решения о допустимости использования русского языка обновленцы принимали на своих антитихоновских «соборах».
* * *
Итак, Поместный Собор 1917–1918 годов под председательством Святейшего Патриарха Тихона никаких решений, утверждавших возможность или целесообразность изменений в языке богослужения, не принял.
4/17 ноября 1921 года появилось Обращение Святейшего Патриарха Тихона к архипастырям и пастырям Православной Российской Церкви, в котором говорилось:
Все это делается под предлогом приспособить богослужебный строй к новым требованиям времени, внести в богослужение требуемое временем оживление и таким путем более привлекать верующих в храм.
На такие нарушения церковного устава и своеволие отдельных лиц в отправлении богослужения нет и не может быть нашего благословения.
Божественная красота нашего истинно назидательного в своем содержании и благодатно действенного церковного богослужения, как оно создано веками апостольской ревности, молитвенного горения, подвижнического труда святоотеческой мудрости и запечатлено Церковью в чинопоследованиях, правилах устава, должна сохраняться в Святой Православной Русской Церкви неприкосновенною как величайшее и священнейшее ее достояние. Совершая богослужение по чину, который ведет начало от лет древних и соблюдается по всей Православной Церкви, мы имеем единение с Церковью всех времен и живем жизнью всей Церкви...»
Град Москва 4/17 ноября 1921 г. № 1575.
ГАРФ, ф. 550, оп. 1, номер 152, л. 3–4.
А 14 сентября 1925 года Патриарший местоблюститель митрополит Петр (Полянский) издает распоряжение всем верным чадам Русской Православной Церкви, которое сохраняет свою силу и до сего дня и в котором говорится о «введении различных, часто смущающих совесть верующих новшеств при совершении богослужения…», в частности,«п. 13) Введение в богослужебную практику русского языка… Я решительно заявляю, – писал митрополит Петр, – о недопустимости… подобных явлений в церковно-богослужебной практике… и предупреждаю, что упорствующие новаторы будут подвергнуты мною взысканиям» (ЦИАМ, ф. 2303, оп. 1, № 232, л. 1–3. Машинопись.).
Будем помнить эти указания Первосвятителей Церкви Русской святого Патриарха Тихона и священномученика Петра и, руководствуясь их распоряжениями, бережно хранить Предание Церкви и церковнославянский язык богослужения.
Редакция сайта «Благодатный Огонь»
Благодатный Огонь
Карта Cбербанка: 2202 2062 6781 2241
ЮMoney (Яндекс-Деньги): 410012614780266

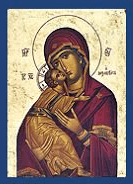




Сергей 14.02.2020 в 00:41:04
После прочтения мудрой статьи становится ясно, что никакого решения в отношении русского языка на Поместном Соборе принято не было. Будем надеяться, что церковная общественность и прихожани выступят за сохранения церковнославянского языка....